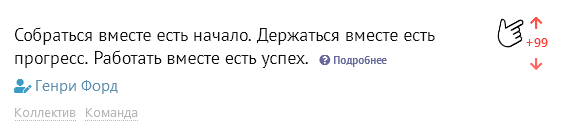Владимир Исаакович Левин (род. в 1932 году) — литературовед и литературный критик. Сотрудник Института мировой литературы имени Горького, и еженедельника «Литературная Россия». Автор статей о Блоке, Лермонтове, Грибоедове, о проблемах и отдельных произведениях советской литературы.
По мнению автора статьи, иследователи ошибаются, когда придают особо важное значение монологу Печорина, видя в нем известный ключ для понимания лермонтовского образа. Они заблуждаются «по силе инерции», проявив «несчастную доверчивость …к буквальному значению слов». На самом деле, монолог Печорина всего лишь хитрый прием опытного ловеласа и соблазнителя, фальшивого, пустого человека, ни одному слову которого нельзя верить.
В. ЛЕВИН
Об истинном смысле монолога
Печорина
*Хотя со времени выхода романа в свет прошло более ста двадцати лет, замечание Лермонтова до некоторой степени сохраняет свою силу и в отношении современного литературоведения. Речь идет о толковании современными учеными знаменитого монолога Печорина: «Да! такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли; я стал злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние, — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, — тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней — и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало» (VI, 297).
Исследователи лермонтовского творчества неизменно рассматривают этот монолог как одно из центральных мест романа. Одни называют его «исповедью Печорина»1, другие — «эпитафией о его погибшей душе»2, третьи — приводят как иллюстрацию обличения Лермонтовым высшего общества России 30-х годов3. Словом, когда речь заходит о том, как Печорин «дошел до жизни такой», на сцене обязательно появляется этот монолог, на него неизменно опираются литературоведы. Сила инерции — великая сила, преодолеть ее очень трудно, и подобное толкование монолога превратилось в некую аксиому.
Однако внимательное изучение текста романа показывает, что монолог этот играет совершенно иную и далеко не столь существенную роль в понимании образа Печорина, ибо нет никаких оснований придавать ему буквальный смысл.
В «журнале Печорина» монолог этот относится к записи от 3 июня, которая начинается следующими словами: «Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь?» (VI, 293). Вопрос этот и последующий ответ на него раскрывают цель, которую преследует данным монологом Печорин. Этой цели подчинены все разговоры Печорина с княжной Мери. Все они являются звеньями одной цепи, ходами шахматиста, превосходно разыгрывающего свою партию. Не составляет исключения и данный монолог.
Взглянем на фразу, предшествующую ему. «Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид» (VI, 296; подчеркнуто мною. — В. Л.). Если человек принимает определенный вид, значит он играет какую-то роль, и у нас уже есть некоторые основания не доверять ему.
Печорин произносит свой трогательный монолог и смотрит, какое впечатление произвели его слова на княжну, достиг ли он своей цели, выиграл ли он этим ходом партию? Да, ход оказался великолепным, удар достиг цели — княжна поражена и растрогана.
«В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали… ей было жаль меня! Сострадание, чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце» (VI, 297), — эта фраза следует непосредственно после монолога.
Как холодны и расчетливы фразы, окаймляющие монолог, как противоречат они в тоне своего звучания выспренной и пылкой «исповеди» Печорина! А ведь запись в журнале Печорина сделана в тот же день, так что Печорин не имел времени взглянуть на событие уже другими глазами; он писал непосредственно, как говорится, — по горячим следам.
Печорин выиграл партию не одним ходом. Он методично, четко и продуманно разыграл свою роль. Заглянем несколько вперед. Вот запись от 22 мая: «После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид» (VI, 285). А в записи от 29 мая мы встречаем: «…всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем» (VI, 292). И далее, там же: «Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид» (VI, 293).
В игре, которую ведет Печорин, есть и третий партнер. Это Грушницкий. И Печорин в разговоре с ним (запись от 16 мая) также «принял серьезный вид» (VI, 276) (всюду подчеркнуто мною. — В. Л.).
Пятикратным повтором «Я принял…вид» Лермонтов показывает, что разбираемый монолог является одним из ходов (правда, может быть, самым эффектным и решающим) в «атаке» Печорина на княжну Мери, в спектакле, который разыгрывает этот превосходный актер.
Интересно взглянуть на монолог и с точки зрения его стилистики. Эта прочувственная речь была бы, безусловно, на месте в устах героя романтического произведения в духе Бестужева-Марлинского и даже раннего Лермонтова, но из общего строя языка Печорина, героя глубоко реалистического романа, она явно выпадает. Лишь еще один небольшой печоринский монолог выдержан в том же стиле. И он тоже обращен к княжне Мери (запись от 7 июня, т. е. спустя 4 дня после первого): «Простите меня, княжна! Я поступил как безумец… этого в другой раз не случится: я приму свои меры!.. Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей! Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте» (VI, 305).
В самом начале повести «Княжна Мери» мы уже слышали почти те же слова. Это — когда Печорин рассказывает о Грушницком, своей романтичностью забавляющего не только Печорина, но и самого Лермонтова: «Приезд его на Кавказ — также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что… тут он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: ,нет, вы (или ты) этого не должны знать!.. Ваша чистая душа содрогнется!.. Да и к чему?.. Что я для вас! — Поймете ли вы меня?..» и так далее» (VI, 263—264).
Итак, дважды становится Печорин перед княжной Мери в позу Грушницкого, и это не случайно: тонкий психолог, Печорин считает, что окутав себя ореолом романтики, он скорее и вернее добьется успеха. Печорин сознательно подражает человеку, над которым он смеется, подражает именно в том, что как раз и вызывает его смех. Не исключена возможность, что пародийность этого монолога является своеобразным лермонтовским переосмыслением образа романтического героя его ранней лирики и особенно драматургии («Странный человек», «Два брата»).
Но может быть, несмотря на цели, которые преследовал своим монологом Печорин, и на мелодраматическую форму монолога, Печорин все-таки говорил правду? Может быть, он заранее решил рассказать княжне о своем прошлом, считая, что правда подействует здесь лучше всякого вымысла?
Безусловно нет. Из рассказа Максим Максимыча мы узнаем, что никакого конфликта между юным Печориным и светом не было. Печорин был достаточно богат и родовит, чтобы свет широко и гостеприимно раскрыл перед ним свои объятия; Печорин вовсе не был им отвержен (как это можно было бы заключить из его монолога), а наоборот имел в нем весьма большой успех. Это подтверждается и отношением к Печорину матери Мери, княгини Лиговской, которая с самого начала смотрит на него как на человека своего круга. С ним произошла какая-то неприятность, кажется, дуэль, из-за которой он выслан на Кавказ — ну и что же, она нисколько не компрометирует его в глазах света, и двери гостиных по-прежнему широко открыты перед ним.
Печорин обманул не только легковерную княжну Мери — в этом еще раз сказалась гениальность лермонтовской кисти — но и принявших монолог всерьез многоопытных критиков. Однако не всех. Обратившись к Белинскому, мы увидим, что первого и непревзойденного исследователя «Героя нашего времени» «провести» оказалось не так-то легко.
Белинский сразу понял, что в словах Печорина не заключена правда, что монолог вовсе не является рассказом о его прошлом. Цель монолога была ясна Белинскому. «Бедная Мери! Как систематически, с какою рассчитанною точностию ведет ее злой дух по пути погибели!» (IV, 241) — так резюмирует великий критик свои впечатления от монолога.
Это замечание, а также слова «она все приняла за наличную монету» (VI, 241) свидетельствуют о том, что Белинский нисколько не поверил Печорину, он-то не принял его «исповедь» за «наличную монету»…
Нас ни в коей мере не должны ввести в заблуждение следующие слова критика: «От души ли говорил это Печорин или притворялся? — Трудно решить определительно: кажется, что тут было и то и другое» (IV, 240).
В дальнейшем мы можем убедиться в том, что Белинский не имел здесь в виду правдивость монолога, он подразумевал иное.
Когда настоящий актер находится на сцене, он забывает о том, что играет какую-то роль: он искренне верит, что он — Лир, Отелло или Хлестаков.
Именно этот момент, момент, связанный с искренностью игры актера, имел в виду Белинский.
Белинский четко разграничивает понятия «правда» и «искренность». Критик считает, что преследуя определенные цели и прибегая к заведомой лжи, Печорин в своей замечательной, полной вдохновения импровизации в какой-то момент сам поверил в ее правду и лгал уже совершенно искренне.
«Мало того, что они хорошо помнят свои истинные страдания, — пишет критик о людях печоринского склада, — они еще неистощимы в выдумывании небывалых» (IV, 240). В этих словах Белинского ясно звучит неверие его в правдивость слов Печорина.
Но с величайшей тонкостью обобщения показывает критик искренность лжи Печориных: «Истинная или ложная причина их жалоб, — им всё равно, и желчная горесть их равно искренна и непритворна. Мало того: начиная лгать с сознанием… они продолжают и оканчивают искренне. Они сами не знают, когда лгут и когда говорят правду, когда слова их — вопль души или когда они — фразы» (IV, 241).
Более поздние исследователи романа, к сожалению, не поняли того, что было совершенно ясно Белинскому: этим монологом Печорин замечательно, с подлинно артистическим вдохновением и талантом сыграл перед княжной Мери созданную им самим роль романтического героя.
Интересно отметить, что подобная же ситуация — искренняя ложь — возникла у Печорина и в его отношениях с Бэлой. Заключив с Максимом Максимычем пари, что через неделю Бэла будет принадлежать ему, и всей душой желая этого, Печорин решается на крайнее средство, которое приносит ему успех. «Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Бэла! — сказал он: — ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся: — прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу, — ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду — куда? почему я знаю! Авось, недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки; тогда вспомни обо мне и прости меня». — Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала … смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал, … он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя» (VI, 221—222).
Здесь все — как и с Мери: нет сомнения, что заранее рассчитывая и продумывая эту сцену и даже еще входя к Бэле, Печорин ни минуты не думал куда-либо уезжать, искать смерти и т. д., но начав говорить, начав «лгать с сознанием», он сам поверил в искренность своих слов, он сам настолько был увлечен ими, что кончил искренне — он готов был действительно привести свои слова в исполнение.
Итак, монолог, обращенный к Мери, — заведомая ложь, перешедшая в искреннюю, — не является экстраординарным случаем в жизни Печорина — об этом говорит сцена с Бэлой. Оба эпизода вместе уже составляют определенную черту характера (именно это, безусловно, имеет в виду Белинский, типизируя ее в людях печоринского склада). Черта эта — ее можно называть по-разному: можно — искренностью во лжи, можно говорить о блестящих артистических способностях Печорина — черта эта в одном случае (с Бэлой) предстает перед читателем открыто; в другом же (с Мери) — настолько завуалированно, что многочисленные читатели и исследователи романа оказались введенными в заблуждение. Обращенный к Мери монолог, на первый взгляд кажущийся рассказом о прошлом Печорина, а на деле не имеющий к нему никакого отношения, служит раскрытию совершенно особой черты характера героя.
И в этом еще раз проявляется замечательное разнообразие лермонтовских приемов построения образа.
Сноски
- 1 А. А. Титов. Художественная природа образа Печорина. — Сб. Проблемы реализма русской литературы XIX в. M.—Л., 1961, стр. 97.
- 2 Д. Е. Тамарченко. Из истории русского классического романа. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. M.—Л., 1961, стр. 73.
- 3 А. А. Титов. Указ. соч., стр. 97; З. Я. Рез. Роман M. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Л., 1956, стр. 29.
Левин В. Об истинном смысле монолога Печорина // Творчество М. Ю. Лермонтова: 150 лет со дня рождения, 1814—1964. — М.: Наука, 1964. — С. 276—282.